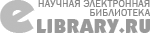Исторический нарратив как вызов для национальных государств
Ключевые слова
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире дискуссии об исторической памяти стали неотъемлемой частью международных отношений 1 2. В самом общем смысле под исторической памятью принято понимать систему социокультурных методов и институтов, контролирующих и преобразующих важное для настоящего момента социальное знание в информацию о прошлом для передачи новым поколениям “накопленного общественного опыта” 3. “Горизонт времени” при изучении проблем исторической памяти, однако, не очень широк и ограничивается в основном ХХ в. В среде историков и международников дискуссии об этом явлении затрагивают преимущественно недавние события вроде Второй мировой войны, репрессий 1930-х годов в нашей стране или распада СССР 4 5. Более ранний период обычно остается в стороне от историко-политических дискуссий, а времена Античности или Средневековья кажутся нашему современнику и вовсе иной цивилизацией, которая “выпадает” из контекста исторической памяти. В действительности переосмысление итогов античной и средневековой истории может стать колоссальным вызовом для современных государств, и в эпоху “войн памяти” следует быть готовым к нему заранее.
Гипотеза автора заключается в следующем. Успехи этнологии ХХ в. доказали иллюзорный характер многих исторических реконструкций, созданных историографией национальных государств (в Европе XIX в., а в странах Азии – в ХХ в.) и направленных на поиски у каждого народа дальних предков: возводить французов к галлам и франкам, немцев к готам или гуннам, итальянцев к древним римлянам, датчан и шведов – к викингам и т.д. Поскольку в современном мире нет большинства древних и средневековых народов, которые давно утратили свои языки, культуру, самосознание и антропологический тип, то искусственные схемы преемственности по отношению к ним современных национальных государств могут распасться, что поставит под сомнение сам дискурс национального самосознания. В этой связи возникает необходимость проанализировать две взаимосвязанные проблемы: 1) воздействие “исторического нарратива” на формирование национальной идентичности; 2) влияние “исторического дискурса” на положение государства в cистеме международных отношений.
НАРРАТИВ И ДИСКУРС
Появление “войн памяти” и “дипломатии памяти” стало возможным благодаря разработке в исторической науке концепта “исторического нарратива” 6 7. В XIX в. в историческом познании преобладала методология позитивизма, предполагавшая вычленение фактов из источников с их последующим построением в определенную хронологическую схему. Успехи гуманитарных наук, прежде всего, диахронических исследований в языкознании и культурологии, доказали, что механически выделить факты из источника невозможно: современные исследователи зачастую не понимают культурного поля и смыслов, вложенных в соответствующие текстуальные образы. Исследователь может только интерпретировать прошлое, предполагая, что он частично познал смысл источников определенной эпохи. Совокупность ее устоявшихся интерпретаций в исторической науке получило название исторического нарратива (от англ. narrative – рассказ).
Исторический нарратив возникает там и тогда, когда в рассказ о фактах добавляются субъективная позиция и эмоциональные оценки автора текста (“нарративатора”). Нарратив – это, в терминах американского философа Артура Данта, “объясняющий рассказ” 8. Он должен привлечь внимание читателя к событию и потому фокусирует внимание на определенных его моментах и интерпретациях. Автор нарратива сам устанавливает систему образов, смысловые коннотации и причинно-следственные связи между событиями текста и метатекста как совокупности текста и сопутствующих смыслов из связанных с ним текстов.
Классический пример – источники по древнерусской истории. В конце прошлого века отечественные историки доказали, что русские летописи нельзя воспринимать буквально 9 10 11. Русские летописцы, будучи глубоко верующими людьми, чаще всего писали историю не такой, какой она была, а для Страшного Суда – такой, какой она должна предстать перед Богом 10. Тексты древнерусских летописей насыщены библейскими аллюзиями и аналогиями, понять которые невозможно без знания Библии. Соответственно реальные события, изложенные в подобных текстах, были заметно “библеизированы”, то есть подогнаны под библейские тексты. Аналогично средневековые западноевропейские хроники также писались “под Библию”, а труды мусульманских летописцев – “под Коран”.
Теория “исторического нарратива”, по мнению голландского историка Франклина Рудольфа Анкерсмита, разделила историческую науку на “традиционную” и “новую”, в основе которых лежит разное понимание исторической реальности. Традиционная историография основывалась на постулате “прозрачности” текста, согласно которому текст исторического сочинения представляет адекватную картину исторического прошлого и адекватно выражает намерения автора. “Новая” историография основана на том, что текст не всегда дает адекватную картину реальности вследствие субъективных или объективных искажений. «Если раньше, – указывает Ф.Р. Анкерсмит, – саморефлексия историка была направлена на выработку “корректных” методов исторического познания, позволяющих, как полагали, получить достоверные знания о прошлом, то теперь под вопрос ставится сама возможность исторического познания; объектом изучения становится не историческое прошлое, а историографическая традиция как таковая» 12.
Исторический нарратив быстро перерос в исторический дискурс как совокупность концептуально связанных исторических текстов, интегрированных в определенный исторический контекст. Основы этой теории заложил немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900), но в окончательной форме разработал французский культуролог Мишель Фуко (1926–1984). Дискурс, по его мнению, создается совокупностью последовательностей знаков, представляющих собой высказывание; в этом смысле дискурс – это совокупность высказываний, которые подчиняются одной и той же системе формирования 13. Американский историк Хейден Уайт (1928–2018) в работах “Метаистория” (1973) и “Тропинки дискурса” (1978) выявил структуру исторического дискурса 14 15. Согласно Уайту, исторический процесс лишен смысла: историк анализирует определенный набор текстов и по-своему переосмысливает их в виде литературных моделей (романа, трагедии, эпоса и т.п.), то есть самостоятельно придает им значение.
Перерастание исторического нарратива в исторический дискурс показал датский исследователь Якоб Торфинг. По его мнению, теория дискурса с начала 1970-х годов прошла в своем развитии три этапа 16:
– узко-лингвистический: исследователи трактовали дискурс как текстовую единицу разговорного и письменного языка;
– система социальных практик: вид деятельности, в ходе которой конкретно-исторический субъект, воздействуя через институты на систему общественных отношений, меняет общество и развивается сам;
– социальное конструирование: воздействия на социальную реальность с целью утверждения в ней новых смыслов и значений, институциональных образований, социальных конструктов, технологий.
Классификация Я. Торфинга глубже классификации нидерландского лингвиста Тёна Адриануса ван Дейка, выделявшего три типа дискурса: аргументативный, риторический и нарративный 17. На основе теории Я. Торфинга можно выделить три типа исторического дискурса.
Первый тип – осмысление дискурса как текстовой единицы. Основы такого понимания дискурса заложил французский философ Жак Деррида (1930–2004), создатель метода текстуальной деконструкции 18. Французский философ отказался от интерпретации текста как чисто лингвистического явления (в этом его позиция сходна с теорией текста советского литературоведа и лингвиста М.М. Бахтина 19), распространив понятие текста и на неязыковые семиотические объекты, на весь мир, рассматриваемый в категориях “интертекста” или “метатекста”. Голландский литературный критик Доуве Фоккема (1931–2011) определил текст как семантическое поле, в котором автор выражал ценности и представления своего времени 20. Задачу исследователя Фоккема видел в выявлении определенных кодов, понимаемых как системы предпочтительного выбора автором семантических и синтаксических средств (в нашей стране схожую с Фоккемой позицию занимал основатель семиотической школы Ю.М. Лотман 21). Еще дальше пошел американский исследователь Лайонел Госсман, предложивший двухуровневую структуру исторического нарратива: 1) “нижний этаж” (вертикальный или систематический) – подстрочные примечания и отсылки к источникам; 2) “верхний” (горизонтальный или синтагматический) – последовательности событий, сюжета и типа дискурса 22. По Госсману соотношение двух “этажей” текста показывает, что позаимствовал автор у предшественников и “духа времени” и как он переосмыслил их в своем произведении.
На данном этапе изучения исторического нарратива появились намеченные Д. Фоккемой методики изучения авторского намерения. Различные исследователи выделили в нем четыре компонента: 1) личные взгляды автора текста (включая политические); 2) влияние на автора системы образования своего времени; 3) зависимость автора от социокультурного контекста своей эпохи; 4) включенность автора в идейно-политические споры своего периода. В начале 1990-х годов в рамках исследований исторического дискурса произошел раскол. Одна группа исследователей провозгласила, что история как объективная реальность не познаваема: познаваемы только взгляды авторов исторических текстов. Другая группа полагала, что методики работы с историческим нарративом приблизят историков к познанию исторического процесса.
Второй тип – понимание дискурса как социальной практики. Здесь исторический дискурс приобрел социально-политическое значение, воплощением которого стала концепция “мест памяти” (фр. lieu de mémoire). Введенная в начале 1980-х годов французским историком Пьером Нора 23, она предусматривала единство духовного и материального, которое со временем и по воле людей стало символическим элементом наследия национальной памяти общности. Места, в которых, по мнению П. Нора, воплощена национальная память, – это памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные слова. Главная функция подобных “мест памяти” заключается в том, чтобы сохранять память группы людей и тем самым создавать представления общества о самом себе и своей истории.
Большинство “мест памяти” не являются в современном мире аутентичными, то есть сохраняющими непрерывную память о событии с того момента, как оно произошло. Фактически мы зачастую имеем дело не с памятью о реальном историческом событии, а с памятью о его образе, созданном в последующие времена. Но если это так, то самосознание может строиться на совокупности иллюзорных образов. Подвижка этих образов, выполненная даже с научными целями, может привести к катастрофическому распаду национального самосознания, как, например, это произошло с образом Гражданской войны в СССР.
Третий тип – восприятие исторического дискурса как социального конструирования. Концепция “памятных мест” и их деконструкция подвели исследователей к проблеме, что сама историография современных национальных государств – это не что иное как дискурс, сложившийся в определенный период времени. В школьных и даже вузовских учебниках истории мы читаем разделы “История Германии”, “История Италии”, “История Индии”, “История Саудовской Аравии”, редко задумываясь над тем, как давно существуют эти государства в их современном качестве. Аналогичными дискурсами выступают также традиции подачи в исторической науке истории ряда стран (Германии, Италии, Югославии) как едва ли не вечного стремления к объединению. В действительности вопрос о том, насколько, например, жители средневековой Венеции, Флоренции и Сицилийского королевства или Пруссии и Баварии ощущали себя единым народом, остается, мягко говоря, дискуссионным.
Отдельную проблему представляет условность современных названий античных и средневековых государств. Подобным историческим эвфемизмом выступает Шумеро-Аккадское царство конца III тыс. до н.э.: Аккад был главным городом завоеванного его правителями Шумера, а их титул звучал в приблизительном переводе как “Сильный муж четырех сторон света”. Для современников не существовало названия “Византийская империя” – она была по-прежнему существовавшей Римской (Ромейской) империей. Священная Римская империя германской нации изначально была просто Римской: Оттон I короновался в 962 г. как император римлян и франков (лат. Imperator Romanorum et Francorum). “Священной” она официально стала в 1254 г., а Священной Римской империей германской нации – только в 1512 г. Не было и таких названий, как “держава готов”, “держава гуннов”, “королевство вандалов”, все эти термины возникли в историографии XVIII–XIX вв. Говоря о политике того или иного государства в прошлом, не стоит забывать, что само его название может быть конструктом историков, в то время как современники могли воспринимать его иначе.
Современная историческая наука, будучи наследницей романтической историографии XIX в., предпочитает длинные временные схемы происхождения государств. Сомнения в том, связано ли, например, Древнерусское государство с современной Россией, а Западно-Франкское королевство с современной Францией в общественно-политическом дискурсе не приветствуются. В Европе XVIII в., напротив, предпочтение отдавалось “короткому нарративу”: взгляд на свою страну как на нечто новое, не обремененное традициями, позволяющее быстро построить принципиально новое общество на рациональных античных основах 24. Утверждалось, что “настоящая Россия началась с Петра”, “Франция – это новый Рим”, “надо преодолеть тьму Средневековья” и т.д. Соответственно в современной культуре и европейской культуре XVIII в. разное отношение к “памятным местам”: в первом случае они имеют почти сакральную ценность; во втором рассматриваются как наследие некой темной и не очень ценной эпохи, от которого надо избавиться ради построения лучшего будущего.
Исторический дискурс – это не фальсификация и не подтасовка исторических фактов в угоду политической конъюнктуре. (Хотя с точки зрения постмодернистской философии термин “подтасовка” неуместен: по-своему интерпретируют факты все историки, будучи детьми своего времени и социума). Подтасовка является достоянием политической пропаганды, другой вопрос – топорной или уточенной. Исторический дискурс не подтасовывает факты, а всего лишь смотрит на них с нового, необычного, ракурса. Например, для немецких историков начала ХХ в. власть готов над племенами Приднепровья была доказательством изначально германского характера этой территории. Представитель теории исторического нарратива задал бы иной вопрос: “Насколько готов можно считать предками современных немцев, а антов – славян, или это были абсолютно другие, исчезнувшие ныне народы?” Дискуссия потеряла политическую остроту, как только мы по-другому сформулировали исследовательский вопрос. Но одновременно он породит другие, не менее острые дискуссии, в Германии, России и на Украине: “Насколько целесообразно отказаться от наследия готов или антов в нашей истории?”
Теория исторического дискурса подвела современных историков к выводу о том, что сама историография национальных государств есть не что иное, как определенный дискурс. Этот дискурс во многом обеспечивает их национальное самосознание, и его пересмотр может привести к трудно прогнозируемым последствиям. Здесь теория исторического дискурса оказалась близка конструктивистской школе в теории международных отношений и вышла на международный уровень.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ТЕОРИИ КОНСТРУКТИВИЗМА
Теория конструктивизма возникла в науке о международных отношениях в 1980-х годах как реакция на недостатки двух традиционных школ – реализма и либерализма. Условным рубежом в ее основании принято считать 1989 г., когда американский историк Николас Онуф опубликовал работу “Мир, который мы создаем” 25. Принципиально новых положений в теории Онуфа не было: он привнес в международные отношения восходящее к немецкому социологу М. Веберу понятие “конструкт” как производный человеческим сознанием идеальный объект или классификационно-оценочный шаблон, посредством которого человек воспринимает мир 26. “Любое сообщество конституируется через определение своих внешних границ, которое и создает общность между членами группы”, – отмечал российский исследователь В.Е. Морозов 27. Иначе говоря, конструктивизм вышел на новую для международников проблему: как государства определяют свои границы, формируют свою идентичность и определяют свое отношение к другим государствам.
Методологические проблемы конструкта в международных отношениях попытался выделить немецкий политолог Александр Вендт 28. Он сформулировал три постулата теории конструктивизма: 1) государства являются ключевыми единицами анализа международных отношений; 2) ключевые структуры в системе государств носят интерсубъективный характер; 3) государственные интересы и приоритеты в значительной степени конструируются этими социальными структурами. Эти положения Вендта отличались от идей реалистов и либералов: от первых – тем, что их не создает некая система извне, от вторых – тем, что государственные интересы не детерминированы внутренней политикой. Однако концепция Вендта, как и школа политического реализма, рассматривала национальные государства как целостные и внутренне консенсусные общности.
Недовольство ряда исследователей теорией Вендта привело к появлению более радикальной формы конструктивизма. Первоначально “радикалы” сгруппировались вокруг так называемой Копенгагенской школы. Она уделяла особое внимание невоенным аспектам безопасности. В рамках Копенгагенской школы зародились теории: 1) секторальной безопасности (военной, политической, экологической) и 2) “секьюритизации” (перевода любой нейтральной темы в область безопасности) 29. В работах ее представителей «безопасность трактуется не как реальное состояние дел, а как дискурсивная практика, направленная на модификацию иерархии политических приоритетов. Если какая-то проблема “секьюритизируется” (включается в орбиту дискурса безопасности), то это означает, что ей приписывается наивысший приоритет, статус экзистенциальной угрозы, требующей со стороны общества чрезвычайных мер противодействия» 30. Но если государства и их интересы – конструируемая общность, то понимание ими безопасности, национальных интересов и национальной идентичности могут меняться. Подобные перемены влекут за собой изменения территориальной привязки государств, их границ и форм политической идентичности. Представим, например, что элиты неких стран откажутся считать их границы за абсолютную ценность, как это сделало, например, руководство СССР в конце 1980-х годов.
Копенгагенская школа создала потенциал для появления еще более радикального направления в конструктивизме. Так, норвежские исследователи Фредерик Барт и Ивэр Нойманн 31, сфокусировав внимание на изучении проблем конструирования национальных идентичностей, выдвинули на первый план оппозицию “Я–Другой”, отражающую изучение механизма конструирования этнических общностей. Согласно Барту и Нойманну, определение собственных границ общностью (например, государства), возможно только посредством противопоставления себя другим идентичностям. Отсюда появилась волна работ о возможностях искусственного конструирования новых региональных идентичностей.
Здесь Копенгагенская школа сомкнулась с тем пониманием исторического нарратива, которое сложилось в западной исторической науке. Процесс “секьюритизации”, выявленный ее классиками Оле Вейвером и Барри Бузаном 31, многократно изучен в научной литературе, однако на него можно посмотреть и в неожиданном ракурсе. Четырехчленная схема “субъект” (кто переводит проблему в ранг проблем безопасности) – объект (проблема, переведенная в ранг опасных) – референтная группа (кому угрожает проблема) – аудитория (кого убеждают в необходимости принять проблему как угрозу безопасности) очень похожа на создание исторического нарратива. В обоих случаях мы имеем дело с объективной реальностью, которая была иначе интерпретирована определенными субъектами в политических целях, причем настолько, что отделить субъективную трактовку от объективной истины стало невозможно.
Подобно историческому нарративу, конструктивизм – не фальсификация исторических фактов, а смена правил игры, взгляд на проблему с нового ракурса. “Секьюритизация – это управляемая правилами практика, успех которой не обязательно зависит от существования реальной угрозы, но от дискурсивной способности эффективно придать развитию такой специфический облик”, – отмечал французский исследователь Тьерри Браспеннинг-Бальзак 32. Другое дело, что этот новый облик прошлого может оказаться разрушительным для национальной идентичности. Аналогично и смена идентичности – это смена правил игры, которая может происходить даже незаметно для современников и не всегда осознаваться потомками.
Концепция “мнемонической дипломатии” 5 как межгосударственных отношений, выстроенных вокруг проблем исторической памяти, представляет собой политический вариант теории исторического дискурса. Во-первых, государства редко спорят о самих исторических фактах: чаще речь идет о споре вокруг образа фактов, сложившего позднее. Во-вторых, как отмечает российский исследователь Д.В. Ефременко 33, государства осуществляют селекцию нарративов и практик, часть которых не признается полезной для поддержания идентичности в качестве основы дееспособности политического актора. В-третьих, исторические факты в период дискуссий чаще всего отсекаются от определенного исторического контекста, который не допускается в информационное поле. Иначе говоря, существуют некие правила исключения сюжетов из дискурса, нарушение которых может привести к не очень предсказуемым последствиям.
Эти правила могут быть негласной выборкой сюжетов, которые сохранились и которые не сохранились в массовом сознании. Отечественная война 1812 г., например, – важное памятное место в самосознании русского народа. При этом мы почти не помним, что в СССР до середины 1930-х годов эта война рассматривалась как “реакционная”, что привело к массовому сносу ее памятников. Историки и политики продолжают спорить о законности или незаконности пакта Молотова–Риббентропа 1939 г. и советско-германского раздела Восточной Европы. Однако при этом крайне редко можно увидеть постановку вопроса о том, что сами восточноевропейские страны (включая Польшу и прибалтийские государства) были созданы Антантой всего за 20 лет до этих событий. До Первой мировой войны в Восточной Европе было три империи – Российская, Германская и Австро-Венгерская. Можно ли посмотреть на пакт Молотова–Риббентропа как на попытку восстановления подобия границ 1914 г. в Восточной Европе? Этот вопрос тянет за собой другие: 1) насколько законно Антанта создала восточноевропейские страны из российских, германских и австрийских территорий? 2) почему итоги Первой мировой войны должны рассматриваться как абсолютная вечная ценность, не подлежащая сомнению, если победители в ней не считали ценностью границы 1914 г.?
Возникает интересная схема конструирования исторической памяти. Сначала происходит некое событие, затем через некоторое время память о нем возрождается, но в контексте или вне контекста его исторической эпохи. Так, Отечественная война 1812 г. воспринимается в российском общественном сознании как часть наполеоновских войн, а события кануна Второй мировой войны в общественном сознании стран Восточной Европы (а по факту и нашей страны) отрезаны от итогов Первой мировой войны. При появлении альтернативных дискурсов (не фальсификации, а именно альтернативных дискурсов) трактовки событий зачастую блокируются на уровне образования, общественного сознания и даже законодательно 34. Прорыв альтернативных дискурсов может привести к распаду исторической памяти и самой мнемонической дипломатии. Например, охватившая Россию волна разоблачений в отношении революции 1917 г. неожиданно разрушила в середине 1990-х годов антисталинский дискурс ХХ съезда КПСС по логике: если сами революционеры были преступниками и палачами, а Октябрьская революция – главным “злом” в истории, то заслуживают ли они сочувствия как жертвы репрессий 1930-х годов? Дискуссия об этих проблемах была срочно заменена на привычную полемику по проблемам сталинизма.
Здесь конструктивизму пока не хватило исторической основы – той самой теории исторического дискурса, которая до настоящего времени определяет самосознание национальных государств. Нарратив подачи национальной истории, возникший в начале XIX в., был создан под задачи национального государства и закреплен через массовую систему образования. Он, строго говоря, решал комплекс не только научных, но и политических, задач:
– обоснование легитимности существования данного государства;
– распространение его идентичности в массовом сознании;
– утверждение идеи неизменности существования данного государства в его текущей форме;
– определение законности границ данного государства или его претензий на иные территории.
Создание идентичности национальных государств происходит примерно по одинаковой схеме. Сформировавшееся национальное государство создает единый дискурс своей истории, который постепенно закрепляется через государственную систему образования. Этот дискурс легитимирует территориальную привязку данного государства, его границы, а также формирует излюбленную конструктивистами оппозицию “Я–Другой”. В рамках этого дискурса решается вопрос об отношении преобладающей нации с различными этническими меньшинствами и группами данной страны. На базе утвержденного дискурса национальной истории вырастает несколько поколений, рассматривающих текущее государство как заданную общность, отделенную культурой, языком и историей от других подобных общностей. Иначе говоря, через одно-два поколения жители данной страны ощущают свою сопричастность к истории и культуре национального государства, а само это государство считают “своим”.
Но и разрушение идентичности национальных государств происходит зачастую по похожей схеме. Сначала из-за нарастающих критических исследований происходит разрушение господствующего дискурса национальной истории. После этого происходит самораспад единой государственной системы образования на фрагментированные сюжеты. Под сомнением оказываются границы государства, политическая система, его территориальная привязка. Если ситуация не будет переломлена или не появится новый позитивный дискурс, процесс может привести к распаду национального государства и/или его изменению до нового состояния.
ДИСКУРС ПРОБЛЕМНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Первый тип исторического дискурса можно назвать проблемная идентичность. Этот дискурс содержит в себе много дискуссионных вопросов.
Классическим примером выступает Франция. Дискурс понимания французской истории зародился в период Реставрации Бурбонов и отражал политическую борьбу того времени. У его истоков стоял историк-роялист Франсуа Доминик де Рейно, граф де Монлозье (1755–1838). По его мнению, история Франции началась с завоевания римской Галлии германским племенем франков в конце V в. Французские аристократы выступали соответственно потомками германцев-франков, а третье сословие – галло-римлян, которые так и не смогли ассимилироваться друг с другом 35. Французская революция 1789–1799 гг. была для Монлозье восстанием покоренных галло-римлян против потомков франков 35. Либеральные историки эпохи Реставрации – Огюстен Тьерри (1795–1856), Франсуа Гизо (1787–1874) и Адольф Тьер (1797–1877) – полемизировали с Монлозье относительно оценки этих процессов. Однако они положили идею Монлозье о германском завоевании галло-римлян в основу дискурса французской истории и трактовали Французскую революцию как восстание потомков галло-римлян против потомков германцев 36. Тьер и вовсе видел империю Наполеона I как возрождение старой, настоящей Римской империи в противовес германской Священной Римской империи 37.
В XIX в. на этой основе сложилась стройная схема французской средневековой истории, закрепленная в школьных и университетских курсах. Согласно этой схеме началом собственно французской истории стало франкское завоевание Галлии в конце V в., Франция выделилась из состава Франкской империи в 843 г. как Западно-Франкское королевство, французские короли из династии Капетингов объединили Францию через противостояние с Англией в XII–XV вв. Однако во второй половине ХХ в. эта внешне стройная схема французской истории (“дискурс Монлозье”) стала все менее соответствовать новым исследованиям.
Прежде всего была поставлена новая проблема: “Корректно ли считать Франкское государство прямым предшественником современной Франции или это была история принципиально иного народа?” Франкское государство следует изначально рассматривать в одном ряду с варварскими королевствами, созданными на руинах Западной Римской империи в V–VI вв. германскими племенами: остготами, вестготами, англами, саксами, аланами, вандалами и т.д. Франкский язык относится к группе германских, а не романских языков и не был прямым предшественником возникшего в середине IX в. старофранцузского языка. Около 800 г. франки создали Франкскую империю, включавшую в себя территории современных Франции, северо-восточной Испании, северной половины Италии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов, Западной Германии, Австрии и частично Словении. Условной столицей франков был не Париж или Орлеан, а Аахен (запад современной Германии).
Спорной остается и хронологическая граница перехода от Франкской империи к собственно Франции. До середины XX в. ею было принято считать Верденский договор 843 г., разделивший Франкскую империю на Западно-Франкское, Средне-Франкское и Восточно-Франкское королевства. Однако исследования французского историка Лорана Тейса 38 потребовали пересмотреть эту схему. Распада Франкской империи в 843 г. как такого не было: император, получивший свои владения в виде Средне-Франкского королевства, сохранял главенствующее положение в отношении западно- и восточнофранкских королей. До начала X в. короли различных франкских образований пытались воссоздать империю Карла Великого и на короткие периоды времени приближались к реализации этой цели.
Восточно-Франкское королевство, эволюционировавшее около 919 г. в Германию, восстановило Римскую империю в 962 г. Ее императоры из династии Людольфингов (Саксонской династии) стремились присоединить к своему имперскому проекту и Западно-Франкское королевство. Это вызвало раскол в его элите: короли их династии Каролингов соглашались на включение в имперскую орбиту, графы Робертины (Капетинги) видели Западно-Франкское королевство самостоятельным государством. Приход к власти Капетингов в 987 г. был антиимперским проектом, то есть Франция родилась как оппозиция франкскому наследству, а не его продолжение. Впрочем, королевство формально оставалось Западно-Франкским: первым королем Франции стал Филипп II Август в 1180 г., а это уже конец XII в. Получается, что “дискурс Монлозье”, вокруг которого спорили весь XIX в., был историей не Франции, а иного государства и народа.
Но и конец XII в. – дата условная. В последние десятилетия в историографии произошел скачок в изучении истории южной Франции, которая долгое время оставалась terra incognita для историков. Здесь еще в IX в. появились государственные образования, только номинально связанные с западно-франкской короной: Аквитанское королевство середины IX в., Окситанская держава второй половины IX в. (современные южная Франция и северная Испания), держава Рамнульфидов Х в. (Пуатье, Аквитания и Овернь), Аквитанское герцогство ХI в. Аквитания (в широком смысле слова) имела собственный язык (langue d’oc в противовес северному старофранцузскому langue d’oil), была родиной того типа культуры, которые принято называть Высоким средневековьем. Такие категории европейской средневековой культуры, как куртуазность, рыцарский роман, поэзия трубадуров, восходят к юго-западной Франции. В рамках Клюнийского аббатства, созданного в Х в., зародился и проект автономии церкви от светской власти, реализованный позднее в политике католической теократии. В дальнейшем Аквитанская держава объединилась с Англией, и составляла с ней единой целое до условного окончания Столетней войны в 1453 г.
Изменение взгляда на французскую историю создает проблемный дискурс истории Великобритании. Ее историография сложилась на рубеже XVIII–XIX вв., то есть в период противостояния с Францией. Именно в Великобритании зародилась романтическая культура с характерным для нее обращением к средневековью в противовес французской культуре Просвещения с присущим ей культом античности. В работах историков Генри Галлама (1777–1859), Генри Томаса Бокля (1821–1862), Томаса Карлейля (1795–1881) была выработана схема английской истории: король Альфред Великий (871–900) создал из серии англосаксонских королевств единую Англию, затем она была завоевана в 1066 г. герцогом Вильгельмом Нормандским и попала под власть французского дворянства, затем английские короли владели на континенте примерно двумя третями Франции, но потеряли свои владения в результате Столетней войны (1337–1453).
Но изучение истории викингов позволило по-новому посмотреть на так называемое нормандское завоевание Англии. При короле Кнуде Великом (1016–1035) Англия входила в состав его владений наряду с Данией и Норвегией, составляя так называемую Империю Северного моря. Нормандию передал норманнам в 911 г. король западных франков Карл III (893–922), и она пользовалась расширенным иммунитетом в составе королевства. Не было ли нормандское завоевание Англии очередной попыткой создания “Нормандской державы” вместо “Империи Северного моря”?
В историографии стало банальным говорить о том, что завоевание Англии Вильгельмом Нормандским создало единую англо-французскую систему. Однако король Англии, будучи одновременно герцогом Нормандским, являлся вассалом не короля Франции, а короля западных франков, что не одно и то же. Сюзеренитет западно-франкской короны распространялся на Нормандию, но не на Англию, хотя вассалитет герцога Нормандского подчеркивал его более низкое положение в феодальной иерархии по отношению к королю западных франков. Англия как бы включилась через Нормандию в феодальную систему Западно-Франкского королевства на правах ее особого члена. Но в таком случае правомерно ли рассматривать историю средневековых Англии и Франции как двух самостоятельных государств, или они были частями единой системы?
В середине XII в. Аквитанское герцогство соединилось с Англией и составило объединение, получившее условное название “Анжуйская держава” (“Анжуйская монархия”) в составе Англии, герцогства Нормандии, Бретани, графства Анжу, Турени, Мэна, графства Пуатье, герцогств Аквитании и Гаскони. В вассальной зависимости от ее королей оказались графства Ла-Марш, Перигор, Овернь, а также виконтство Лимож. Анжуйский двор не имел ни англосаксонской, ни французской идентичности. Языком знати со времен норманнского завоевания был англо-нормандский диалект старофранцузского языка, в то время как староанглийский считался языком простого народа. В Анжуйской державе укрепилась космополитическая культура, которая делала упор на христианских и сословных, а не национальных компонентах. Выражением новой идентичности стал “бретонский цикл” (артуровские, тристановские и античные) рыцарских романов: их основу составляли сюжеты из истории кельтских королевств Британских островов V–VII вв., но антураж и образы подавались как Анжуйская держава с ее рыцарской куртуазной культурой. Последующие 300 лет стали борьбой Плантагенетов и Капетингов за наследство Анжуйской державы, по итогам которой и появились Франция и Англия.
В историографии XIX в. Столетняя война (1337–1453) осмыслялась как конфликт двух королевств – Англии и Франции. В ХХ в. исследователи показали, что понятия “Англия” и “Франция” были условными: они были единой политической системой, в которой король Англии был родственником и вассалом короля Франции в качестве герцога Гиени (осколка Анжуйской державы). Фактически это был конфликт двух боковых ветвей династии Капетингов за ее наследство. В его ходе английские короли то воссоздавали Анжуйскую державу (проект Великой Аквитании), то пытались создать единое Англо-Французское королевство. В период конфликтов возвысился третий игрок – Бургундия, создавший собственное квазигосударство, объединенное с историческими Нидерландами. Столетняя война переросла для французских королей в войны с Бургундией, а для английских королей – в Войну алой и белой розы, где по сути соперничали два пути развития Англии – ее ограничение Британскими островами или восстановление владений на континенте. Только к концу XV в. англо-французская система окончательно разделилась на Англию (ограниченную территорией Британских островов) и Францию как сугубо континентальное государство.
Здесь встает этнополитическая проблема: с какого момента возникли англичане и французы в их современном качестве? Исследователи все чаще стали задавать вопросы: не были ли средневековые бургундцы, аквитанцы, бретонцы, особыми народами (этносами), принудительно ассимилированными французскими королями в ходе борьбы? Аналогичный вопрос вызывает и элита Анжуйской державы: историки силятся подобрать ей термин – англо-норманны, англо-анжуйцы, норманно-анжуйцы, норманно-аквитанцы и т.д. Получается, что современные англичане и французы – довольно молодые народы, окончательно сложившиеся только в XVI–XVII вв. Становление их идентичности произошло за счет ликвидации идентичности целой серии этносов и их культур, что само по себе порождало скрытость и недоговоренность в классических дискурсах истории.
Впрочем, в XVI–XVII вв. государственность Франции и Англии была подвижной. Французские короли в XVI в. сначала пытались присоединить к себе части Апеннинского полуострова, затем в рамках Религиозных войн заново подчиняли себе юг Франции. (Интересный вопрос: если бы Итальянские войны оказались успешными для французских королей, новая Франция с итальянскими владениями была бы Францией или каким-то новым образованием?). Англия в XVI в. на короткий период вошла в личную унию с Испанией, а Шотландия с Францией. Единая Великобритания – это изначально был проект XVII в. шотландской династии Стюартов, объединившей королевства Англии, Шотландии и Ирландии. Великобритания берет свое начало только с 1707 г. – момента слияния Англии и Шотландии в единое государство – Королевство Великобритания (Kingdom of Great Britain) – под воздействием Войны за испанское наследство (1701–1714). В 1801 г. Королевство Великобритания было преобразовано в Соединенное королевство Великобритании и Ирландии.
Проблемный дискурс меняет понимание истории, приближая ее к методологии естественных наук. Набор незыблемых истин заменяется дискуссиями по ключевым проблемам истории. Но дискуссии неизбежно ставят вопрос о том, насколько прочны и окончательны современные формы государственности этих стран. В контексте подъема региональных идентичностей (вроде шотландского и ирландского национализма в Британии) эти вопросы могут принять болезненный характер.
ДИСКУРС СКОНСТРУИРОВАННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Второй тип национального исторического дискурса – страны со сконструированной идентичностью. Речь идет о государствах, возникших по историческим меркам относительно поздно и потому вынужденных конструировать собственные дискурсы национальной истории.
Примером такого конструирования стала Италия. Со времени краха Королевства остготов в середине VI в. на Апеннинском полуострове не существовало единого государства. Идея единой Италии была экспортирована на Апеннинский полуостров Наполеоном Бонапартом, который 28 мая 1805 г. короновался в качестве короля Италии (причем даже это Итальянское королевство не охватывало все Апеннины). После его поражения на роль лидера в борьбе за единую Италию стала претендовать пьемонтская династия. Пьемонт покровительствовал авторам, которые выступали с идеей общеитальянской идентичности: Джузеппе Мадзини, Винченцо Джоберти, Карло Каттанео, Джовани Доменико Романьози. Это явление получило название Рисорджименто (от итал. il risorgimento – возрождение) – идеологии, постулировавшей необходимость объединения Италии в единое национальное государство.
Проект Рисорджименто был реализован пьемонтской династией в 1859–1870 гг., что привело к созданию единого Итальянского государства. Но истории Италии как единого целого не существовало: была отдельная история различных итальянских государств, население которых отнюдь не ощущало себя единым народом. Окончательно дискурс единой итальянской истории был создан уже в первой половине ХХ в. такими философами и историками, как Джовани Джентиле (1875–1944), Джоаккино Вольпе (1876–1971), Бенедетто Кроче (1866–1952). В 1934 г. все исторические научные учреждения Италии передавались в подчинение новому органу – Центральной Джунте исторических исследований, которая открыла несколько специализированных исторических институтов общенационального значения (Институт новой и новейшей истории, Институт древней истории, Институт нумизматики, а Итальянский исторический институт был преобразован в Институт истории средневековья).
Нарратив итальянской истории оказался дискретным. История Италии включила в себя историю франкского королевства Италии, средневековых Итальянских республик и Пьемонта. Однако при этом из нее были исключены история Королевства Остготов, Лангобардского королевства, Папской области. Под вопросом оказалась история южноитальянских образований: Неаполитанского и Сицилийского королевств. Они то включаются в состав истории Италии, то исключаются из нее в период, когда они входили в состав Анжуйской империи или были связаны с коронами Арагона и Габсбургов. Произошел отбор исторических сюжетов, работавших на идею построения единого итальянского государства.
Критерии такого разделения носили чисто политический характер. Единая Италия строилась на идеях сохранения романской идентичности (восходящей к античному Риму) и как светское государство в противовес проектам католической теократии. Из нее удалялось все, связанное с немецким наследием, – германские государства и история Священной Римской империи во главе с германскими императорами. Одновременно из нее удалялась история католической церкви, как бы “ушедшая” в Ватикан. Такой дискурс вполне объясним политическими причинами, но с научной точки зрения он создает излишне дискретную историю Италии.
Эта дискретность латентно ставит вопрос о судьбе итальянской государственности. До настоящего времени продолжаются споры о подоплеке так называемого Рисорджименто 1860–1861 гг.: было ли оно результатом саморазвития итальянских государств или было просто реализацией политического проекта Пьемонта. Во втором случае мы имеем дело с принудительным объединением Апеннинского полуострова в 1861 г. и реализацией пьемонтского проекта итальянской государственности. Однако по историческим меркам пьемонтская Италия существует еще очень немного – всего полтора столетия. В таком ракурсе по-новому предстают и периодически охватывающие Италию сепаратистские движения.
Другим примером конструируемого исторического дискурса стала Германия. Исторически германская система состояла из множества государств, над которыми формально стоял римский император, ставший в 1806 г. императором другого государства (Австрии), созданного из его личных земельных владений. В дальнейшем система разделилась – большинство германских государств объединились в новую Германскую империю во главе с прусским королем, принявшим титул императора; Австрия эволюционировала во внешнее по отношению к Германии государство – Австро-Венгрию, в рамках которой возродилось Венгерское королевство. Но одновременно с этим получилось, что вся тысячелетняя история Священной Римской империи как бы “уехала” из Германии в Австрию, а перед двором императора Вильгельма I и канцлером О. фон Бисмарком встала задача выстроить новую немецкую историю без Австрии.
“Отвязать” немецкую историю от Священной Римской империи (то есть Австрии) помогли музыкальные произведения композитора Рихарда Вагнера (1813–1883). Ключевую роль здесь сыграла его опера “Лоэнгрин” (1850 г.), сюжет которой разворачивается в первой половине X в., во времена правления короля Генриха Птицелова (919–936), когда Восточно-Франкское королевство превратилось в Германию. Вагнеровский сюжет как бы возрождал Германию до создания Священной Римской империи в 962 г., символически отделяя ее от Габсбургов. Следующим шагом стала тетралогия Вагнера “Кольцо нибелунгов”: синтез немецкого эпоса “Песнь о нибелунгах” и скандинавской мифологии “Старшей Эдды”. При этом в основу “Песни о нибелунгах” был положен реальный сюжет: война племени бургундов с гуннами V в. Получалось, что через музыкальные драмы Вагнера немецкое общество как бы открывало свое доимперское прошлое.
Баварские Виттельсбахи превратили творчество Вагнера в своеобразную “имперскую идею” Германской империи. Под покровительством короля Баварии Людвига II (1864–1886) в городе Байройте (Бавария) в 1876 г. прошел первый вагнеровский фестиваль в специально построенном театре, на котором состоялась премьера полного цикла “Кольца нибелунга”. Тот же Людвиг II построил в 1886 г. на основе произведений Вагнера замок Нойшванштайн (нем. Schloss Neuschwanstein – Новый лебединый утес) около городка Фюссен (юго-западная Бавария). Настенные полотна иллюстрируют мотивы из вагнеровской оперы “Лоэнгрин”, а также иллюстрации к другим произведениям композитора. Позднее, уже в Третьем Рейхе, с 1933 г. (то есть с 50-й годовщины со дня смерти Р. Вагнера) и вплоть до начала Второй мировой войны в замке Нойшванштайн проводились праздничные вагнеровские концерты.
Культ Р. Вагнера потянул за собой культ готской цивилизации, ибо действие вагнеровских опер происходило в условном V в., то есть в период подъема германского племени готов. Интерес к готам возродил еще в 1770-е годы шведский историк Йоханн Эрих Тунманн (1746–1778), видевший в готах предков шведов. Однако готскую тему вскоре перехватили классики немецкой исторической науки Бартольд Георг Нибур (1776–1831) и Теодор Моммзен (1817–1903). Окончательно теория “готской культуры”, сменившей Римскую империю, была поднята во второй половине XIX в. немецким историком и писателем Феликсом Даном (1834–1912), который создал 12-томное сочинение “Германские короли” (1861–1909), а также четырехтомную “Предысторию германских и романских народов”.
В этом готском дискурсе существовала серьезная политическая подоплека, связанная с франко-германскими конфликтами конца XIX в. В германских государствах до середины прошлого века преобладал так называемый готический шрифт как особый вариант латинского алфавита. Его название было предложено итальянскими гуманистами Возрождения, которые возводили его (как и само средневековье) к “варварскому” народу готов. Культ готской цивилизации в Германии как бы бросал вызов этому латинскому дискурсу – прежде всего Франции, позиционировавшей себя как наследницу античности и Рима. Готский мир подспудно выступал в работах немецких историков XIX в. как своеобразная древняя германская империя, сокрушившая Римскую и создавшая на ее основе уникальную культуру 39. Готская культура выступала в данном случае как основа средневековой “германской Европы” в противовес “романской Европе”.
Особое внимание уделялось теории королевства остготов Германариха, существовавшего во второй половине IV в. Согласно сведениям Иордана, Германариху удалось к 370 г. покорить герулов, что позволило контролировать торговые пути от Волги вниз по течению до Дона и Черного моря. Границы государства Германариха условно простирались от берегов Балтийского моря до Азовского, от Тисы до Дона. В состав державы, по сообщению Иордана, входили финские племена (тиуды, мерено и морденс), эсты, венеды, склавены и анты. В дальнейшем у готов возник конфликт с антами, которые поддержали удар гуннов, что привело к разгрому антов и легендарной казни их вождей. В контексте сложных перипетий славяно-германских отношений эти туманные сведения использовались в ХХ в. в пропаганде обеих сторон.
В 1899 г. на территории центральной и южной Украины была открыта Черняховская археологическая культура. Немецкий археолог Пауль Райнеке (1872–1958) соотнес готское государство на Днепре (Ойум) III–IV вв. с Черняховской культурой на территории современных Украины, Молдавии и Румынии 40. Райнеке выдвинул гипотезу, что последняя была устроена по принципу гирлянды: готские городища шли вдоль ключевых рек (Днепр, Днестр, Южный Буг, Рось, Сула, Псел и Ворскла). Немецкая археология выдвинула несколько версий локализации гипотетической столицы готов Данпарстада: 1) территория современного Киева; 2) район современного города Берислав в Херсонской области; 3) район Каховского водохранилища; 4) район Пинских болот; 5) “Данпарстад” – это не конкретный город, а готское выражение á stöðum Danpar (“на берегах Днепра”), которое может означать все Среднее Поднепровье. Данные о Черняховской культуре немецкие историки пытались соотнести со скандинавской “Сагой о Хервёр”, где упомянута другая готская столица – Археймар, а также “черный лес Мюркид”. Придепровье превращалось в исконно германский мир, едва ли не колыбель германской государственности, которая была потеряна под ударами азиатов-гуннов.
Эти наработки позволили немецкому археологу Рейнхарду Шиндлеру (1912–2001) создать образ германской цивилизации VI в. 41 За основу своих построений он взял исследования Эдуарда Бреннера о существовании серии германских королевств в меровингский период, возникших по итогам распада Римской империи. Наиболее могущественными из них были королевства остготов и вестготов, но помимо них существовали королевства герулов, ругов и гепидов. Если добавить к ним королевство франков, то возникал образ германских королевств со специфической историей, развитие которых было прервано к концу VI в. ударами Византии и авар.
В окончательной форме теорию “готской цивилизации” III–VI вв. создал немецкий историк Людвиг Шмидт (1862–1944). Он реконструировал историю цивилизации готов 42 43, выделив в ней следующие этапы: 1) переселение из Скандинавии в бассейн Днепра; 2) создание здесь своего государства Ойум и его конфликты с Римом; 3) распад на остготов и вестготов (термингов и грейтунгов) на рубеже III–V вв.; 4) христианизация и создание собственной письменности епископом Вульфилой; 5) отступление под натиском гуннов в Центральную Европу; 5) создание королевств остготов (на Апеннинском полуострове) и вестготов (на Пиренейском полуострове); 6) гибель готских государств под ударами Византии и Арабского халифата в VI – начале VIII вв.
“Готицизм” выводил немецкое самосознание из кризиса, постулируя, что у Германии была история, независимая от Священной Римской империи (то есть Габсбургов). Он также легитимзировал создание Германской империи как возрождение старой, настоящей готской империи. Сами образы готских королевств Приднестровья или Теодориха Великого выглядели как оперы Вагнера, получившие реальное историческое обоснование. Однако слабым звеном готской теории была ее малая оснащенность письменными источниками. Собственно, от готов сохранились немногочисленные рунические надписи III–V вв. и фрагменты “Серебряного кодекса” Ульфилы (Библии в готском переводе, причем из 330 листов сохранилось только 188). От Королевства остготов сохранилась одна постройка – мавзолей Теодориха в Равенне и одна мозаика с изображением его дворца в церкви Святого Аполлинария в той же Равенне. Большинство рассказов о готах известно со слов римских и византийских авторов, а также из труда готского историка Иордана (VI в.). Сложным моментом “схемы Шмидта” был вывод ученого о том, что готы проживали где угодно, кроме территории самой Германии.
Во второй половине ХХ в. теория готской цивилизации стала подвергаться сомнению. Наиболее остро она критиковалась в СССР, что также имело политическую подоплеку: готский дискурс воспринимался в нашей стране как идеология немецкого Drang nach Osten (натиск на Восток). Прежде всего был поставлен под сомнение исключительно готский характер Черняховской культуры. Советские исследователи М.И. Артамонов (1898–1972) и Б.А. Рыбаков (1908–2001) выдвинули гипотезу о ее принадлежности антам 44 45; другие археологи выдвигали версии о ее фракийском и скифо-сарматском характере. В последние годы набирает популярность точка зрения П.Н. Третьякова (1909–1976) о полиэтничном характере памятников Черняховской культуры 46, которая включала в себя различные племена: славянские, сарматские, готские, фракийские. Неясным остается вопрос и о происхождении антов – советский археолог И.П. Русанова (1929–1998) доказывала 47, что они были остатком ираноязычных тавроскифов и не имели прямого отношения к славянам. Но если это так, то готское протогосударство Ойум было, видимо, полиэтничным, а не сугубо германским. Вопрос о том, насколько действительно германскими были государства готов, ушедших в Европу, становится более чем дискуссионным.
Другой проблемой стала критика Иордана. Ее осуществил австрийский медиевист Хервиг Вольфрам 48, попытавшийся создать целостную историю готов, начиная от переселения их из Скандинавии и заканчивая падением Вестготского и Остготского королевств. Выводы Вольфрама оказались неоднозначными. Во-первых, Иордан, по его мнению, зачастую смешивал историю готов с историей других племен Причерноморья, включая сарматов. Во-вторых, Иордан был скован традицией греко-римских авторов, которые зачастую слабо разбирались в этнополитической ситуации Причерноморья. В-третьих, Вольфрам и его последователи доказали, что Иордан легко манипулирует этнонимами “готы – геты – готтунги”, хотя за ними могли стоять разные племена. «Если “Гетика” Иордана не имела ничего общего с устной готской традицией, являясь артефактом римской и италийской политической конъюнктуры, то позднейшая средневековая историческая традиция германцев отталкивалась уже от нее в стремлении сформировать свою идентичность», – отмечал датский историк Арн Кристенсен 49. Возможно, что готы были просто поздним собирательным этнонимом целой группы этносов Pаннего Cредневековья. Но в такой ситуации сама концепция готской империи как древней германской цивилизации оказывается под сомнением. Во всяком случае она была далека от того образа древней германской империи, сконструированной в немецкой исторической науке второй половины XIX в.
Сконструированный дискурс национальной истории может отвечать политическим тенденциям. Однако его научное изучение ставит вопрос о реальном соотнесении пласта средневековой истории с историей реальных национальных государств. Сомнения в этом дискурсе могут стать проблемой для национальной историографии, порождая новые кризисы идентичности.
ДИСКУРС ВЫБРАННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Третий тип исторического дискурса мы можем обозначить как выбранная идентичность – та, что была выбрана государствами самостоятельно из нескольких конкурирующих версий. Классическими примерами такого типа идентичности выступают Россия и Китай.
Классическая схема истории России, закрепленная в школьных и вузовских учебниках, выглядит следующим образом: Древнерусское государство (Киевская Русь) – перенос центра Русского государства во Владимиро-Суздальскую Русь – объединение русских земель вокруг Москвы – создание Русского царства (государства). Генезис этой схемы проанализировал в 1947 г. известный историк Б.Д. Греков (1882–1952) 50. По его мнению, выбор Киевской Руси в качестве основы русской государственности изначально носил антимосковский характер. “Еще в начале XV в. идет борьба с московскими объединительными тенденциями. Даже такие люди, которые, казалось бы, были преданы Москве, как Сергей Радонежский, вернее составитель его биографии – Епифан, враждебно относятся к Москве и московским тенденциям объединения в начале XV в., так что история пошла рассеяно, появились местные историки, но все-таки, это история и каждая из них обязательно связывает себя с Киевом”. Такой выбор не был случайным: Киев находился в руках Великого княжества Литовского. Однако окончательно эта схема, по мнению Б.Н. Грекова, создана только в XVII в.
Утверждение схемы “Киев – Владимир – Москва” произошло, как показывают современные историки, в кругу царя Алексея Михайловича Романова (1645–1672). Фоном для этого стало и присоединение к Русскому государству левобережья Днепра с Киевом (то есть ключевого компонента “наследства Рюриковичей”) и приведения Русской церкви к обновленному византийскому канону. В Киеве создается учебник по истории нашей страны, где Киеву отводится определенное место, очень шаблонное, но подчеркнута преемственность киевской истории с последующей историей нашей страны. В 1674 г. вышел “Киевский синопсис” Иннокентия Гизеля, излагавший в сжатом виде факты древнерусской истории. В XVIII в. эта схема стала уже общепринятой для русской истории через труды немецких ученых, работавших в России: Герхарда Фридриха Миллера (1705–1783), Готлиба Зигфрида Байера (1694–1738) и Августа Людвига Шлецера (1735–1809). Окончательно киевский дискурс русской истории утвердился после выхода в 1818 г. “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина.
С середины XVIII в. ключевой проблемой для полемики по древнерусской истории стала “нормандская проблема”. Историки-норманисты видели начало государственности Руси с призвания варягов (то есть норманов) в середине IX в. Их оппоненты-антинорманисты вслед за М.В. Ломоносовым (1711–1765) отрицали значимость этого события, возводя государственность Руси к более ранним временам. Однако при этом и норманисты, и антинорманисты работали в рамках одного дискурса: обе партии видели начало русской истории с создания Древнерусского государства с центром в Киеве. За рамками дискуссии оставался, однако, ключевой вопрос: “Почему именно с Киевского государства следует начинать русскую историю?” Миллер 51 и Ломоносов 52 фиксировали, что призванию варягов предшествовали Хазарский каганат и его конфликты с Византией, протогосударства авар и готов, племенные союзы антов и роксоланов, с которыми воевали римляне в Причерноморье. Но эти проблемы были отвергнуты историками XVIII в. как не относящиеся к русской истории. Между тем у историков XVIII в. была возможность выбрать иное событие в качестве начала русской истории. Какой была бы идентичность России, возведенной, например, к Аварскому или Хазарскому каганату как первому русскому государству? (Не менее интересный вопрос: как развивалась бы судьба немецкой историографии, если бы русская историческая мысль в XVIII в. объявила бы готское протогосударство частью своей истории?)
Однако во второй половине XIX в. оформилась малороссийская историография, классиками которой были Н.И. Костомаров (1817–1885) и М.С. Грушевский (1866–1934). В ее основе лежала идея отделения Древнерусского государства (Киевской Руси) от истории России как истории двух разных народов. Киевская Русь была, по их мнению, основой украинской государственности, в то время как русская государственность восходит к Владимиро-Суздальскому княжеству XII в. Костомаров и Грушевский рассматривали события XII в. не как перенос условной столицы из Киева во Владимир, а как разрыв исторических путей Северо-Восточной и Юго-Западной Руси. Из русских историков эту концепцию разделял А.Е. Пресняков (1870–1929), также считавший Древнюю Русь принципиально иным государством, отличным от современной России 53. На основе “разрыва исторических путей” возникла концепция украинства, рассматривавшая Украину как продолжательницу Киевской Руси, в то время как история России начиналась с XIII в., когда Владимиро-Суздальское княжество попало в зависимость от Золотой Орды.
Другой (по-своему ответный) исторический дискурс появился в рамках евразийского движения, возникшего в среде белой эмиграции 1920-х годов. Его сторонники провозгласили в качестве исходного положения поворот к Востоку, то есть объединение истории России с историей народов Евразийской степи. Основатели русского евразийства П.Н. Савицкий (1895–1968), Н.С. Трубецкой (1890–1938), Г.В. Флоровский (1893–1979) настаивали не просто на особом характере русской цивилизации, но и на ее тесной связи с тюрко-монгольским миром. История русской государственности в их логике начиналась с Золотой Орды, в зависимости от которой находилось сначала Владимирское, а затем Московское княжество. Последнее собрало вокруг себя земли бывшей Золотой Орды (монгольское наследство), как бы сменив Монгольскую империю в Евразии.
Обращение к Монгольской империи как началу русской истории само по себе не было революционным: это был старый польский и французский дискурс русской истории. (Сразу подчеркнем: в данном контексте нас интересует не истинность этих положений, а сам факт существования такого дискурса). Еще в Речи Посполитой конца XVI в. сложился дискурс, согласно которому Московские князья и русские цари являлись не Рюриковичами, а Батыевичами – потомками хана Бату (Батый). Именно этим якобы объяснялся тот факт, что Золотая Орда способствовала возвышению Московского княжества, а многие служилые татары переходили на службу к московским князьям. Во Франции XVIII в. Россия часто намеренно называлась Великой Тартарией (фр. La Grande Tartarie), восходящей к империи Чингиса. Евразийцы просто заменили минус на плюс в этом понимании русской истории.
Поворот к Монгольской империи был, однако, промежуточным этапом. Во второй половине ХХ в. так называемые младшие евразийцы Г.В. Вернадский (1887–1973) и Л.Н. Гумилев (1912–1992) провели своеобразную пересборку русской истории. Первый возводил истоки русской истории к кочевым объединениям скифов и сарматов 54; второй – к трансъевразийским империям Средневековья, которые претендовали на объединение Евразии – от Монгольской империи до Великого тюркского каганата. К истории России как бы “приплюсовывалась” история Монгольской империи, а затем и других евразийских империй Средневековья. Итоги этой схемы Л.Н. Гумилев изложил в работе “Поиски вымышленного царства” (1970), начав ее с похода китайского полководца Бань Чао в I в. н.э. в Центральную Азию 55: с точки зрения евразийства это и есть начало русской истории, как бы парадоксально это не звучало для классической схемы. Полемика норманистов и антинорманистов вообще теряет какой-либо смысл в рамках этого нарратива русской истории: она относится к истории Древнерусского государства, не имеющего отношения к России.
Советский дискурс истории оказался перед двойным вызовом. Только в середине 1930-х годов советское руководство стало рассматривать СССР как продолжение исторической России, а не принципиально новое государство. В основу русской истории была положена схема Б.Н. Грекова “Киевская Русь – Владимиро-Суздальская Русь – Московское княжество – Русское государство”, то есть обновленный карамзинский дискурс XIX в. Однако эта схема подверглась атакам с двух сторон. С одной стороны, советское правительство поддерживало политику роста национального самосознания союзных республик, что укрепляло в Украинской ССР теорию связи Древней Руси с украинской государственностью. С другой стороны, принимавшиеся попытки написать в школьных и вузовских учебниках единую историю СССР, начиная с государства Урарту и Хорезма, неизбежно сближали его с евразийством. Хотя официальное отношение в СССР к евразийству было отрицательным, оно постепенно проникало в позднесоветскую историческую науку через теории общности исторической судьбы входящих в него народов.
Показательно, что в позднем СССР начались осторожные переоценки так называемого монголо-татарского ига. Они велись по двум направлениям. Первое – сомнения в достоверности летописных источников, рассказывающих о походе Батыя и его последователей. Второе – переоценка материального ущерба, нанесенного русским княжествам монгольским нашествием 1237–1241 гг. и последующими набегами Золотой Орды. Вывод из этой массы осторожных, но вполне ревизионистских работ, был простой: русско-ордынские отношения были не только тотальным насилием, но и во многом основой русской государственности в ее современном качестве. Зависимость от Орды стала рассматриваться как сохранение государственности Северо-Восточной Руси от польско-литовского наступления. Не случайно уже в 1960-е годы полемика норманистов и антинорманистов постепенно переросла в полемику “киевоцентристов” и евразийцев, в которой бывшие противники стали выступать единым фронтом.
Современный российский исторический дискурс находится в состоянии выбора между сохранением киевоцентричной схемы русской истории и поворотом к евразийскому дискурсу. Первый выбор конфликтен на фоне всех перипетий русско-украинских отношений; второй требует признания истории Древней Руси историей иного, чужого, государства и изменения отношений к “монгольскому наследству”.
Похожие перипетии характерны для истории Китая. Непрерывный дискурс китайской истории во многом был созданием не китайской, а европейской исторической науки XIX в. Современная нам Китайская Народная Республика возникла в 1949 г.: до этого существовал гоминьдановский Китай (1925–1949) со столицей не в Пекине, а в Нанкине. Он в свою очередь возник из противостояния Маньчжурской империи Цин (1644–1912), во главе которой стояли маньчжурские династия и элита. Продолжателем маньчжурской империи выступал не гоминьдановский Китай, а государство Маньчжу-Го, существовавшее в Маньчжурии в 1932–1945 гг. Империи Цин предшествовала империя Мин (1368–1644), родившаяся из противостояния китайско-монгольской империи Юань (1271–1368). Последняя возникла из распада Монгольской империи, а ее продолжением стала существовавшая на территории современных Монголии и северного Китая Империя Северная Юань (1388 – ок. 1600). Вопрос о том, преемником каких образований выступает современная КНР, остается спорным.
Гоминьдановский Китай, эвакуировавшийся в 1949 г. на остров Тайвань, однозначно “забрал” себе его историю. Коммунисты, вернувшие столицу страны в Пекин, как бы вернулись к наследию маньчжурской империи Цин. (Тем более, что современный Китай существует в территориальных границах, напоминающих империю Цин). Но империя Цин стала результатом завоевания империи Мин, сдвинутой к южному Китаю. Именно южный Китай выступал основной протестной базой против империи Цин – сначала через движение Тайпинов, затем через Гоминьдан. Относится ли его история к истории КНР или истории гоминьдановского Китая – вопрос далеко не праздный. Равно как и вопрос о том, можно ли объединить историю КНР (восходящей на практике к империи Цин) с историей гоминьдановского Китая, также остается дискуссионным.
Однако и империя Цин как преемник современного Китая вызывает вопросы. Если ее продолжателем было Маньчжоу-Го, находившееся под контролем Японии, то она выступает как отрицание и современной КНР, и гоминьдановского Китая с его остатком на Тайване. В этом случае империя Цин в самом деле выступает маньчжурской, а не китайской, что само по себе выбрасывает ее из китайской истории как инородное образование 56. В таком случае китайская история “пристраивается” к южнокитайской империи Мин, отделяя империю Северную Юань как часть монгольской, а не китайской истории. Это в таком случае ставит вопрос о принадлежности империи Юань – считать ли ее частью китайской или монгольской истории?
Нынешние границы Китая также сформировались по историческим меркам недавно. Советско-китайский договор о дружбе и союзе 1945 г. закрепил за Китаем Маньчжурию, Тибет и Синьцзян, юридически отделив от него Монгольскую Народную Республику и Тыву (Урянхайский край). Но кто поручится, что нынешнее китайское государство со столицей в Пекине – последнее в китайской истории? Оно может эволюционировать как в более крупное образование, так и в серию более мелких государств. В истории Китая были периоды протяженностью в 300 лет, когда существовали разные государства к северу и югу от реки Хуанхэ, да и империя Цин, и гоминьдановский Китай имели совершенно иные границы. Исследователи снова сталкиваются с проблемой того, считать ли истории этих северных государственных образований частью истории Китая 57.
Противоречия этих схем выявили сначала русские историки-евразийцы, а затем историки стран Центральной Азии. Китайская история с IV в. до н.э. была тесно связана с историей Великой степи. Китайские государства завоевывали образования евразийских кочевников, но последние покоряли территории китайской цивилизации, основывая здесь свои государства. Часто кочевники становились элитой в этих государствах, ведя экспансию. Вопрос о том, какие из этих государств считать частью истории Китая, а какие – частью истории иных государств, зависит от выбора историков и политиков как КНР, так и сопредельных государств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная лингвистика установила XVII в. нижней границей формирования современных национальных языков в Европе. Историческая наука теоретически должна была бы прийти к такому же выводу, отнеся к XVII в. становление современных национальных государств. Но такой вывод потребовал бы признания античности и средневековья принципиально иными цивилизациями, отделенными от современной. Это в свою очередь противоречит историческим дискурсам национальных государств, включивших в себя средневековую и античную истории. Распад этих дискурсов под напором исторических исследований может привести к трансформации идентичностей соответствующих государств.
Современный исторический дискурс национальных государств базируется на “предзнании”. Мы знаем, что в будущем государства средневековья или раннего нового времени объединятся в современное государство, и считаем их частью его национальной истории. Однако для населения и элит этих государств такой итог вовсе не был очевидным. Эта проблема возникает снова, если мы не считает современные национальные государства последними формами государственности. Если мы допускаем их изменение (например, в результате распада), то тогда история существовавших на их территории государств не окончательна.
В самом деле в современной политической теории национальные государства часто предстают чем-то постоянным, существующим чуть ли не со времен cредневековья. Мысль о том, что совсем недавно политическая карта мира выглядела иначе, чем сегодня, а государства имели совершенно иную идентичность, чем в наши дни, кажется многим непривычной. Между тем в Западном полушарии современная политическая карта сформировалась в целом только к концу XIX в., в Восточном полушарии – даже не по итогам Второй мировой войны, а в результате деколонизации 1950-х и распада социалистического содружества (включая СССР) 1980-х годов. Большинство современных государств мира сформировались по итогам этих событий – всего 30, 60, максимум 80 лет назад. Процесс формирования национальных государств не завершен, и это потребует переформатирования как существующих дискурсов национальных историй, так и создания новых. Это в свою очередь приведет к переформатированию привычной нам политической карты мира на новых основаниях, как всегда и было в истории.
Список литературы / References
- Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В. Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности. Политическая наука, 2020, № 2, сс. 66-86. [Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V. Securitization of Memory and Dilemma of Mnemonic Security. Political Science, 2020, no. 2, pp. 66-86. (In Russ.)] Available at: http://inion.ru/site/assets/files/5342/4_sevast_ianova-_efremenko.pdf (accessed 30.11.2023). DOI: 10.31249/poln/2020.02.03
- Миллер А.И., Ефременко Д.В., отв. ред. Методологические вопросы изучения политики памяти: сборник научных трудов. Москва, Санкт-Петербург, Нестор-История, 2018. 224 с. [Miller A.I., Efremenko D.V., eds. Methodological Issues of Studying the Politics of Memory: Collection of Scientific Papers. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istoriya, 2018. 224 p. (In Russ.)] Available at: http://inion.ru/site/assets/files/3626/metodologicheskie_voprosy_izucheniia_politiki_pamiati.pdf (accessed 30.11.2023). DOI: 10.31249/mims/2018.00.00
- Репина Л.П. Культурная память и проблема историописания (историографические заметки). Москва, ГУ ВШЭ, 2003. 44 с. [Repina L.P. Cultural Memory and the Problems of Historiography. Moscow, State University – Higher School of Economics, 2003. 44 p. (In Russ.)] Available at: https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216435442/WP6_2003_07.pdf (accessed 30.11.2023).
- Миллер А.И., Липман М., ред. Историческая политика в XXI веке: сборник статей. Москва, Новое литературное обозрение, 2012. 646 с. [Miller A.I., Lipman M., eds. Historical Politics in the XXI Century: Collection of Research Papers. Moscow, New Literary Observer, 2012. 646 p. (In Russ.)]
- Нагорная О.С. Репрезентации прошлого в международных публичных пространствах: практики и границы мемориальной дипломатии. Новое прошлое, 2020, № 2, сс. 90-100. [Nagornaia O.S. Representations of the Past in the International Public Spaces: Practices and Limitations of Memorial Diplomacy. Novoe proshloe, 2020, no. 2, pp. 90-100. (In Russ.)] DOI: 10.18522/2500-3224-2020-2-90-100
- Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблема саморефлексии новой интеллектуальной истории. Одиссей. Человек в истории. Гуревич А.Я., ред. Москва, Наука, 1996, сс. 11-24. [Zvereva G.I. Reality and Historical Narrative: The Problem of Self-Reflection of the New Intellectual History. Odysseus: Man in History. Gurevich A.Ya., ed. Moscow, Nauka, 1996, pp. 11-24. (In Russ.)]
- Спигел Г.М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма. Одиссей. Человек в истории. Бессмертный Ю.Л., отв. ред. Москва, Наука, 1995, сс. 211-220. [Spiegel G.M. Towards a Theory of the Middle Ground: Historical Writing in the Age of Postmodernism. Odysseus: Man in History. Bessmertnyi Yu.L., ed. Moscow, Nauka, 1995, pp. 211-220. (In Russ.)]
- Данто А. Аналитическая философия истории. Москва, Идея-Пресс, 2002. 292 с. [Danto A. Analytical Philosophy of History. Moscow, Ideya-Press, 2002. 292 p. (In Russ.)]
- Прохоров Г.М. Древнерусское летописание: Взгляд в неповторимое. Москва, Санкт-Петербург, Институт русской цивилизации, Издательство Олега Абышко, 2014. 415 с. [Prokhorov G.M. Ancient Russian Chronicles: A Look into the Inimitable. Moscow, Saint-Petersburg, Institute of Russian Civilization, Izdatel'stvo Olega Abyshko, 2014. 415 p. (In Russ.)]
- Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций. Москва, Аспект Пресс, 1998. 399 с. [Danilevsky I.N. Ancient Russia Through the Eyes of Contemporaries and Descendants (IX–XII Centuries): Course of Lectures. Moscow, Aspect Press, 1998. 399 p. (In Russ.)]
- Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. Москва, МИРОС, 1998. 468 с. [Yurganov A.L. Categories of Russian Medieval Culture. Moscow, MIROS, 1998. 468 p. (In Russ.)]
- Ankersmit F.R. The Reality Effect in the Writing of History. Amsterdam, Knkl. Nederl. Acad. Van wet. Noord-Holl, 1988. 37 p.
- Ницше Ф.В. Странник и его тень. Избранные произведения в 3-х томах. Москва, REEL-book, 1994. Т. 2. 398 с. [Nietzsche F.W. The Wanderer and His Shadow. Selected Works in 3 Volumes. Moscow, REEL-book, 1994. Vol. 2. 398 p. (In Russ.)]
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2002. 528 с. [White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Ekaterinburg, Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, 2002. 528 p. (In Russ.)]
- White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, London, The Johns Hopkins University Press, 1978. 287 p.
- Torfing J. Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges. Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance. Howarth D., Torfing J., eds. Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 1-32.
- van Dijk Teun A. Introduction: Discourse Analysis as a New Cross-Discipline. Handbook of Discourse Analysis. Orlando, Academic Press, 1985, vol. 1, ch. 1, pp. 1-10.
- Деррида Ж. О грамматологии. Москва, Ad Marginem, 2000. 511 с. [Derrida J. On Grammatology. Moscow, Ad Marginem, 2000. 511 p. (In Russ.)]
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва, Искусство, 1979. 423 с. [Bakhtin M.M. Aesthetics of Verbal Creativity. Moscow, Iskusstvo, 1979. 423 p. (In Russ.)]
- Fokkema D. Literary History, Modernism and Postmodernism. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1984. 63 p.
- Лотман. Ю.М. Об искусстве. Санкт-Петербург, Искусство-СПБ, 1998. 702 с. [Lotman. Yu.M. About Art. Saint-Petersburg, Iskusstvo-SPB, 1998. 702 p. (In Russ.)].
- Gossman L. French Society and Culture: Background for 18th Century Literature. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1972. 149 p.
- Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память. Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999, cс. 17-50. [Nora P. The Problems of Memory Locations. France-Memory. Saint-Petersburg, Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999, pp. 17-50. (In Russ.)]
- Эйдельман Н.Я. Мгновенье славы настает… : Год 1789-й. Ленинград, Лениздат, 1989. 300 с. [Eidel’man N.Ya. The Day of Glory is Arriving…: The Year 1789. Leningrad, Lenizdat, 1989. 300 p. (In Russ.)]
- Onuf N. World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia, University of South Carolina Press, 1989. 341 p.
- Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.). Политическая теория и международные отношения. Москва, Аспект-Пресс, 2015, cc. 577-578. [Alekseeva T.A. Modern Political Thought (XX–XXI Centuries). Political Theory and International Relations. Moscow, Aspekt-Press, 2015, pp. 577-578. (In Russ.)]
- Морозов В.Е. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе. Международные процессы, 2006, т. 4, № 1, cc. 82-94. [Morozov V.E. The Concept of State Identity in Modern Theoretical Discourse. International Trends, 2006, vol. 4, no. 1, pp. 82-94. (In Russ.)]
- Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 433 p. DOI: 10.1017/CBO9780511612183
- Buzan B., Wæver O., de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, 1998, 239 p.
- Акопов С.В., Прошина Е.М. “Неоконченное приключение” образа врага: от теории секьюритизации до теории “Далеких местных”. Власть, 2011, № 1, cc. 89-92. [Akopov S.V., Proshina E.M. The ‘Unfinished Adventure’ of the Enemy Image: from the Theory of Securitization to the Theory of ‘Distant Locals’. Vlast’, 2011, no. 1, pp. 89-92. (In Russ.)]
- Vermeulen H., Govers C., eds. Anthropology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Amsterdam, Het Spinhuis, 1994. 104 p.
- Balzacq T. The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. European Journal of International Relations, 2005, vol. 11, iss. 2, pp. 171-201. https://doi.org/10.1177/1354066105052960
- Ефременко Д.В. Память как casus belli. Россия в глобальной политике, т. 20, № 6, сс. 119-141. [Efremenko D.V. Memory as a Casus Belli. Russia in Global Аffairs, vol. 20, no. 6, pp. 119-141. (In Russ.)] DOI: 10.31278/1810-6439-2022-20-6-119-141
- Миллер А. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти. “Секьюритизация памяти”: историческая вина в руках политических антрепренеров. Полития, 2016, № 1(80), cc. 111-121. [Miller A. The Politics of Memory in Post-Communist Europe and its Impact on the European Culture of Memory. ‘Securitization of Memory’: Historical Guilt in the Hands of Political Entrepreneurs. Politiya, 2016, no. 1 (80), pp. 111-121. (In Russ.)]
- Montlosier F.D., de. De la Monarchie française au 1er Janvier 1821. Paris, Gide, 1821. 465 p.
- Тьерри О. История возникновения и развития третьего сословия. Киев, Харьков, Ф.А. Иогансон, 1900. 506 c. [Thierry A. The History of the Emergence and Development of the Third Estate. Kiev, Kharkiv, F.A. Iohanson, 1900. 506 р. (In Russ.)]
- Тьер А. Консульство и империя. Отечественныe записки, 1846. № 2. [Thiers A. Consulate and Empire. Otechestvennye zapiski, 1846, no. 2. (In Russ.)] Available at: http://az.lib.ru/t/txer_a/text_1845_le_consulat_et_lempire-08-oldorfo.shtml (accessed 01.06.2023).
- Тейс Л. История Франции. Наследие Каролингов IX–X века. Москва, Издательство “Скарабей”, 1993. Т. 2. 272 c. [Theis L. History of France. The Heritage of the Carolingians of the IX–X century. Moscow, Izdatel’stvo ‘Skarabei’, 1993. Vol. 2. 272 p. (In Russ.)]
- Christ K. Römer und Barbaren in der hohen Kaiserzeit. Saeculum, 1959, bd. 10, ss. 273-288.
- Reinecke P. Aus der russischen archäologischen Literatur. Mainzer Zeitschrift, 1906, jg. 1, ss. 42-50.
- Schindler R. Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der Tongefäße. Leipzig, C. Kabitzsch, 1940. 163 S.
- Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen. München, C.H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 1934. 648 S.
- Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Westgermanen. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1938. T. 1. 227 S.
- Артамонов М.И. Вопросы расселения восточных славян и советская археология. Проблемы всеобщей истории. Ленинград, Наука, 1967, сс. 29-69. [Artamonov M.I. Settlement of Eastern Slavs and Soviet Archaeology. Universal History Problems. Leningrad, Nauka, 1967, pp. 29-69. (In Russ.)]
- Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси. История СССР, 1981, № 1, сс. 55-75; № 2, сс. 40-59. [Rybakov B.A. New Concept of Prehistory of Kievan Rus. Istorija SSSR, 1981, no. 1, pp. 55-75; no. 2, pp. 40-59. (In Russ.)]
- Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. Ленинград, Наука, 1982. 145 c. [Tret’jakov P.N. In the Footsteps of Ancient Slavic Tribes. Leningrad, Nauka, 1982. 145 p. (In Russ.)]
- Русанова И.П., Тимощук Б.А. Древнерусское Поднестровье. Историко-краеведческие очерки. Ужгород, Издательство Карпати, 1981. 144 с. [Rusanova I.P., Timoshhuk B.A. Ancient Russian Subcontinent. Historical and Local History Sketches. Uzhgorod, Karpati Publ., 1981. 144 s. (In Russ.)]
- Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии). Санкт-Петербург, Ювента, 2003. 654 c. [Wolfram H. Goths. From the Beginning to the Middle of the 6th Century (Experience of Historical Ethnography). Saint-Peterburg, Juventa, 2003. 654 c. (In Russ.)]
- Christensen A.S. Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth. Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2002. 391 p.
- “Историография Киевской Руси”: лекция Б.Д. Грекова в Академии общественных наук (22 апреля 1947 года). Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки, 2017, № 3(15), сс. 457-471. [‘Historiography of Kievan Rus’: Lecture by B.D. Grekov of the Academy of Social Sciences (22 april 1947). Vestnik Omskogo universiteta. Serija: Istoricheskie nauki, 2017, no. 3 (15), pp. 457-471. (In Russ.)]
- Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. Москва, Наука, 1996. 448 c. [Miller G.F. Selected Works on the History of Russia. Moscow, Nauka, 1996. 448 p. (In Russ.)]
- Ломоносов М.В. Избранная проза. Москва, Советская Россия, 1980. 513 c. [Lomonosov M.V. Selected Prose. Moscow, Sovetskaja Rossija, 1980. 513 p. (In Russ.)]
- Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII—XV столетий. Петроград, 9-я государственная типография, 1920. 494 с. [Presnjakov A.E. Formation of the Great Russian State: Essays on the History of the 13th-15th Centuries. Petrograd, 9-ja gosudarstvennaja tipografija, 1920. 494 p. (In Russ.)]
- Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Москва, Айрис-Пресс, 2002. 368 с. [Vernadsky G.V. Drawing Russian history. Moscow, Ajris-Press, 2002. 368 p. (In Russ.)]
- Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. Москва, Айрис-Пресс, 2014. 432 с. [Gumilev L.N. In Search for an Imaginary Tsardom. Moscow, Ajris-Press, 2014. 432 p. (In Russ.)]
- Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX века. Москва, Восточная литература, 2005. 712 c. [Nepomnin O.E. Chinese History: Qing Era. 17th – Early 20th Century. Moscow, Vostochnaja literatura, 2005. 712 p. (In Russ.)]
- Богословский В.А., Москалeв А.А. Национальный вопрос в Китае (1911–1949). Москва, Наука, 1984. 262 с. [Bogoslovsky V.A., Moskalev A.A. Ethnic Question in China (1911–1949). Moscow, Nauka, 1984. 262 p. (In Russ.)]
Правильная ссылка на статью:
Фененко А. В. Исторический нарратив как вызов для национальных государств. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2023, № 3, сс. 14-34. https://doi.org/10.20542/afij-2023-3-14-34